"Математик все сделает лучше". Интервью с ученым-математиком из Гродно, который работает в одном из самых престижных вузов мира
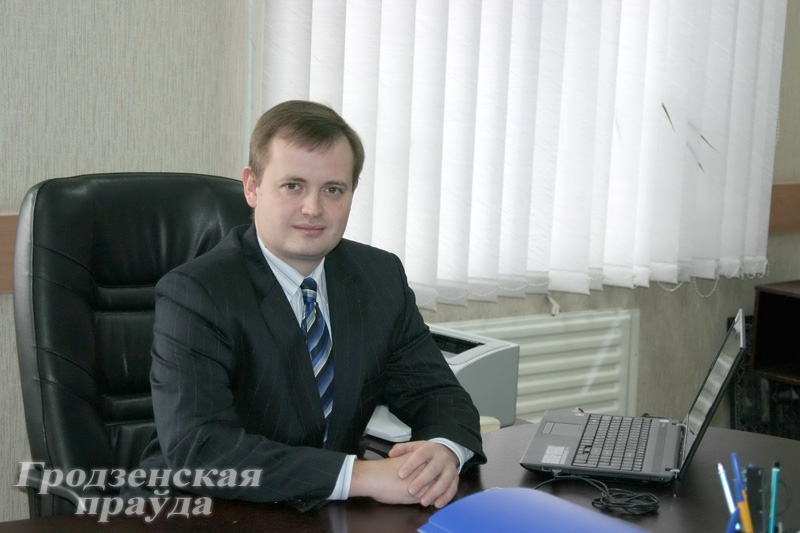
Представляя студентам Станислава Соболевского в качестве приглашенного профессора, сотрудники Гродненского государственного университета имени Янки Купалы еще год назад с большим уважением перечисляли: выпускник ГрГУ, самый молодой в суверенной Беларуси доктор физико-математических наук, директор института непрерывного образования БГУ. Сегодня у Станислава Леонидовича иная должность – руководитель группы Network and Society лаборатории SENSEable city lab Массачусетского технологического института (MIT – прим. ред.) в Бостоне, США. Но он, как и прежде, частый гость в родном вузе и в родном городе. Корреспондент «ГП» с интересом пообщалась с ученым.
ШАХМАТНАЯ ДИНАСТИЯ
– Станислав Леонидович, в каком возрасте почувствовали интерес к королеве наук – математике?
– Довольно юным – классе в четвертом. Но еще раньше увлекся шахматами. Игра, конечно, не точная наука, но хорошая тренировка перед ней. Своего рода проверка ума, собранности и дисциплины.
– А шахматную доску перед вами кто открыл?
– Дедушка. Он значительных спортивных высот не достиг, но сколько служил в Вооруженных Силах, столько участвовал в соревнованиях. Я, кстати, шахматист в третьем поколении. Мама становилась победительницей чемпионата Вооруженных Сил СССР по шахматам среди женщин. Папа и вовсе мастер спорта международного класса по шахматам, сейчас живет в Германии, там и играет.
– Решили не идти по его стопам?
– Дело в том, что шахматы лишь для избранных становятся профессией. Не входишь в тройку лидеров – считай игру увлечением. Старшие доходчиво объяснили это и, когда порекомендовали обратить внимание на математику, возражать не стал. Начал с решения ребусов. Позже сборники задач республиканских, всесоюзных и международных олимпиад всегда держал под рукой. Это было увлекательным времяпрепровождением. Хорошо, что компьютеры в пору моей юности не были так распространены (улыбается). Сегодня наукам сложнее выдерживать конкуренцию с захватывающими, но не всегда полезными занятиями.
НА НАУЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ
– Школу окончили за девять лет, университет за четыре года, аспирантуру за год. Вы были вундеркиндом?
– Сложно сказать: чудо-ребенок – понятие многогранное. Просто мне было интересно. Кандидатская диссертация далась на одном дыхании и была готова уже к окончанию учебы в вузе. За это большое спасибо Ивану Платоновичу Мартынову, в то время заведующему кафедрой математического анализа в Гродненском университете, и Евгению Алексеевичу Барабанову, старшему научному сотруднику Института математики НАН Беларуси. Именно они вдохновляли меня на научные идеи, помогали развивать их и во всем поддерживали. Честно скажу, не ставил перед собой задачу оканчивать учебные заведения экстерном. Но когда работаешь и есть результат, зачем ждать? Жизнь короткая!
– Тем не менее обратили взгляд в сторону фундаментальных исследований.
– Действительно, в 2009 году защитил докторскую по теме «Подвижные особые точки решений обыкновенных дифференциальных уравнений», но пока не сделал фундаментальную науку профессией. Ее роль важна. Однако перед ученым, который занимается наукой ради науки, рано или поздно встает вопрос: для чего это? Никогда не угадаешь, через сколько лет, десятилетий или даже веков твои труды будут востребованы...
Потому, помимо фундаментальной, для меня важно иметь еще и прикладную составляющую в работе. Благо умение нестандартно мыслить позволяет математикам проявлять себя абсолютно во всех сферах жизни.
– Можно сказать, что являясь доктором физико-математических наук, видите себя во многих профессиях?
– А их и было достаточно. Успел поработать в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в бизнесе, в сфере информационных технологий, в образовании и даже поруководить институтом. И сейчас моя работа в Массачусетском технологическом институте лишь отчасти связана с математикой. В мультидисциплинарной команде мы в первую очередь аналитики, а уже во вторую математики, физики, инженеры, программисты, экологи.
ПО ЦИФРОВЫМ СЛЕДАМ
– Мультидисциплинарная команда еще и мультинациональная?
– Да, в ней много выходцев из Азии, Западной Европы, но белорус один. Три года назад я начал сотрудничать с MIT, каждое лето приезжал в Бостон. Было не просто браться за работу, оставлять ее и снова возобновлять. Хорошо, что лаборатория изыскала средства для нашей группы, и с апреля 2012 года я занимаюсь исследованияим на постоянной основе.
– Над чем работаете?
– Направление, которое ведет SENSEable city lab, в нескольких словах можно определить как понимание развития города настоящего для создания эффективной модели города будущего. Группа, которой я руковожу, осмысливает процессы, происходящие в городах, через цифровые следы человеческой активности (телефонные звонки, банковские транзакции, пользование услугами транспортных компаний). Работаем на стыке науки и индустрии во взаимосвязи с телекоммуникационными компаниями, банками, администрациями городов, правительственными и общественными организациями.
– На какой срок рассчитан проект?
– Отдельные проекты лаборатории, как правило, длятся от одного до трех лет. Финансирование нашей группы складывается из разных составляющих, пока средства есть – уверенно двигаемся вперед.
– Что для себя видите результатом работы в Бостоне?
– В первую очередь, практические внедрения наших исследований в планировании городов, деятельности бизнес-партнеров. Также немаловажны для резюме ученого публикации в ведущих мировых изданиях, таких, к примеру, как Nature или Science.
СВЕРХЗАДАЧА ДЛЯ УЧЕНОГО
– В одном из интервью добостонского периода, вы признались, что не видите себя в качестве иностранного ученого. Отношение к вопросу не изменилось?
– По-прежнему рассчитываю приносить пользу белорусской науке, но рад возможности перенять западный опыт. Наши академические школы существенно разняться, а на стыке двух подходов, как правило, происходит много интересных вещей. Так, фундаментальная подготовка белорусских ученых нередко превосходит уровень западной школы. Вместе с тем зарубежные коллеги более практично смотрят на результаты своего труда и лучше умеют их «продавать».
– Этому нам действительно еще учиться и учиться…
– Белорусам пора перестать совершать открытия в основном ради научного интереса и обратить внимание на потребности государства, индустрии, общества. В Америке ученые приступают к исследованиям только тогда, когда точно знают, кому они нужны. Ни одна лаборатория не существует без заказчиков. А если профессор не смог объяснить потенциальным «покупателям», какую пользу они извлекут из его труда, то он может заниматься наукой лишь в качестве воскресного хобби. Никто его эксперименты просто так оплачивать не будет. Мы же, наоборот, привыкли идти от идеи.
– Уже думаете над тем, чем займетесь в Беларуси по возвращении?
– Конкретно нет – слишком много краткосрочных целей нужно осуществить. В целом же в качестве сверхзадачи хочу окончательно разобраться сам и помочь другим молодым математикам найти свое место в жизни, в обществе, в бизнесе. Мне кажется, что люди нашей профессии действительно могут многое. Не случайно в профессиональной среде есть поговорка: математик сделает это лучше. И не потому что будет вычислять успех того или иного дела по формуле, а потому, что используя аналитический потенциал, найдет нестандартное решение.
– К слову, о формулах. Жизненные ситуации наперед просчитываете?
– Что-то, конечно, анализирую, но большинство решений принимаю интуитивно. Давно убедился, что ключевые события происходят вне зависимости от наших усилий. Повороты судьбы нельзя предугадать, но можно научиться умело маневрировать. Ведь если вы в море и к вам приближается волна, глупо грести против нее, лучше расслабиться и покататься (улыбается).
УВЛЕЧЕНИЕ – ВЕСЬ МИР
– Работа стала хобби или остается время на увлечения?
– Очень люблю путешествовать и рад, что работа позволяет это делать. За последний год посетил больше мест на земном шаре, чем за все предыдущие. Хотя и раньше ездил достаточно.
– Что впечатлило?
– Насколько схожими между собой являются все американские и европейские крупные города. Их разнят географическое положение, климатические условия, население. Но, переезжая из одного главного города в другой, не испытываю дискомфорта. Все интегрировано, все понятно. Сегодня мир намного более объединен, чем раньше.
– Минск чем-то уступает мегаполисам?
– На мой взгляд, белорусская столица очень красивая. Есть, конечно, у нее свои минусы, но и существенные плюсы. Например, те дома, что сегодня возводятся в новых микрорайонах Минска, в сравнении со среднестатистическими ветхими жилищами «одноэтажной Америки» на периферии и крохотными квартирами-студиями в центре, были бы признаны жильем класса люкс. За океаном комфортные условия доступны далеко не каждому.
Впечатляет наша Национальная библиотека и другие масштабные сооружения. Здорово, что находим силы и резервы для их возведения. Вообще, Минск очень чистый и уютный город.
КОРНИ В БЕЛАРУСИ
– Станислав Леонидович, признайтесь, как живется белорусскому ученому за рубежом?
– Довольно комфортно, хоть и не тороплюсь «пускать корни». Располагаю просторной трехкомнатной квартирой в Бостоне в живописном месте на берегу Атлантического океана. Он, правда, прохладный. Но на лето припадает пара хороших месяцев, когда все прелести пляжного отдыха открываются буквально в трех минутах ходьбы от дома.
– В Америке без английского никак. Выходит, у вас не только математический, но и гуманитарный склад ума?
– Раньше считал, что знаю английский отлично. Выступал на олимпиадах и даже на областном этапе первое место занял. Но, когда первый раз приехал в Бостон, осознал, что понимаю процентов 20 от того, что говорят носители языка, и процентов 50 – не носители, хорошо освоившие чужую речь. Сейчас эти показатели подросли. Могу даже презентации на английском языке готовить, хотя это в разы сложнее, чем на русском – требования высоки. На любой американской конференции складывается впечатление, что слушаешь как минимум предвыборные спичи политиков. Не скажу, что языковой барьер преодолел полностью, но двигаюсь к тому.
– Родной язык не забываете?
– Что вы! Я часто общаюсь с близкими и родными, да и при первой возможности приезжаю в Беларусь и в Гродно.
– В городе детства любимый уголок есть?
– Дом родных (задумывается). А вообще, весь Гродно – один любимый уголок. В последнее время он меняется буквально на глазах, за что спасибо администрации. Но дух города остается прежним. И это радует...
ШАХМАТНАЯ ДИНАСТИЯ
– Станислав Леонидович, в каком возрасте почувствовали интерес к королеве наук – математике?
– Довольно юным – классе в четвертом. Но еще раньше увлекся шахматами. Игра, конечно, не точная наука, но хорошая тренировка перед ней. Своего рода проверка ума, собранности и дисциплины.
– А шахматную доску перед вами кто открыл?
– Дедушка. Он значительных спортивных высот не достиг, но сколько служил в Вооруженных Силах, столько участвовал в соревнованиях. Я, кстати, шахматист в третьем поколении. Мама становилась победительницей чемпионата Вооруженных Сил СССР по шахматам среди женщин. Папа и вовсе мастер спорта международного класса по шахматам, сейчас живет в Германии, там и играет.
– Решили не идти по его стопам?
– Дело в том, что шахматы лишь для избранных становятся профессией. Не входишь в тройку лидеров – считай игру увлечением. Старшие доходчиво объяснили это и, когда порекомендовали обратить внимание на математику, возражать не стал. Начал с решения ребусов. Позже сборники задач республиканских, всесоюзных и международных олимпиад всегда держал под рукой. Это было увлекательным времяпрепровождением. Хорошо, что компьютеры в пору моей юности не были так распространены (улыбается). Сегодня наукам сложнее выдерживать конкуренцию с захватывающими, но не всегда полезными занятиями.
НА НАУЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ
– Школу окончили за девять лет, университет за четыре года, аспирантуру за год. Вы были вундеркиндом?
– Сложно сказать: чудо-ребенок – понятие многогранное. Просто мне было интересно. Кандидатская диссертация далась на одном дыхании и была готова уже к окончанию учебы в вузе. За это большое спасибо Ивану Платоновичу Мартынову, в то время заведующему кафедрой математического анализа в Гродненском университете, и Евгению Алексеевичу Барабанову, старшему научному сотруднику Института математики НАН Беларуси. Именно они вдохновляли меня на научные идеи, помогали развивать их и во всем поддерживали. Честно скажу, не ставил перед собой задачу оканчивать учебные заведения экстерном. Но когда работаешь и есть результат, зачем ждать? Жизнь короткая!
– Тем не менее обратили взгляд в сторону фундаментальных исследований.
– Действительно, в 2009 году защитил докторскую по теме «Подвижные особые точки решений обыкновенных дифференциальных уравнений», но пока не сделал фундаментальную науку профессией. Ее роль важна. Однако перед ученым, который занимается наукой ради науки, рано или поздно встает вопрос: для чего это? Никогда не угадаешь, через сколько лет, десятилетий или даже веков твои труды будут востребованы...
Потому, помимо фундаментальной, для меня важно иметь еще и прикладную составляющую в работе. Благо умение нестандартно мыслить позволяет математикам проявлять себя абсолютно во всех сферах жизни.
– Можно сказать, что являясь доктором физико-математических наук, видите себя во многих профессиях?
– А их и было достаточно. Успел поработать в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в бизнесе, в сфере информационных технологий, в образовании и даже поруководить институтом. И сейчас моя работа в Массачусетском технологическом институте лишь отчасти связана с математикой. В мультидисциплинарной команде мы в первую очередь аналитики, а уже во вторую математики, физики, инженеры, программисты, экологи.
ПО ЦИФРОВЫМ СЛЕДАМ
– Мультидисциплинарная команда еще и мультинациональная?
– Да, в ней много выходцев из Азии, Западной Европы, но белорус один. Три года назад я начал сотрудничать с MIT, каждое лето приезжал в Бостон. Было не просто браться за работу, оставлять ее и снова возобновлять. Хорошо, что лаборатория изыскала средства для нашей группы, и с апреля 2012 года я занимаюсь исследованияим на постоянной основе.
– Над чем работаете?
– Направление, которое ведет SENSEable city lab, в нескольких словах можно определить как понимание развития города настоящего для создания эффективной модели города будущего. Группа, которой я руковожу, осмысливает процессы, происходящие в городах, через цифровые следы человеческой активности (телефонные звонки, банковские транзакции, пользование услугами транспортных компаний). Работаем на стыке науки и индустрии во взаимосвязи с телекоммуникационными компаниями, банками, администрациями городов, правительственными и общественными организациями.
– На какой срок рассчитан проект?
– Отдельные проекты лаборатории, как правило, длятся от одного до трех лет. Финансирование нашей группы складывается из разных составляющих, пока средства есть – уверенно двигаемся вперед.
– Что для себя видите результатом работы в Бостоне?
– В первую очередь, практические внедрения наших исследований в планировании городов, деятельности бизнес-партнеров. Также немаловажны для резюме ученого публикации в ведущих мировых изданиях, таких, к примеру, как Nature или Science.
СВЕРХЗАДАЧА ДЛЯ УЧЕНОГО
– В одном из интервью добостонского периода, вы признались, что не видите себя в качестве иностранного ученого. Отношение к вопросу не изменилось?
– По-прежнему рассчитываю приносить пользу белорусской науке, но рад возможности перенять западный опыт. Наши академические школы существенно разняться, а на стыке двух подходов, как правило, происходит много интересных вещей. Так, фундаментальная подготовка белорусских ученых нередко превосходит уровень западной школы. Вместе с тем зарубежные коллеги более практично смотрят на результаты своего труда и лучше умеют их «продавать».
– Этому нам действительно еще учиться и учиться…
– Белорусам пора перестать совершать открытия в основном ради научного интереса и обратить внимание на потребности государства, индустрии, общества. В Америке ученые приступают к исследованиям только тогда, когда точно знают, кому они нужны. Ни одна лаборатория не существует без заказчиков. А если профессор не смог объяснить потенциальным «покупателям», какую пользу они извлекут из его труда, то он может заниматься наукой лишь в качестве воскресного хобби. Никто его эксперименты просто так оплачивать не будет. Мы же, наоборот, привыкли идти от идеи.
– Уже думаете над тем, чем займетесь в Беларуси по возвращении?
– Конкретно нет – слишком много краткосрочных целей нужно осуществить. В целом же в качестве сверхзадачи хочу окончательно разобраться сам и помочь другим молодым математикам найти свое место в жизни, в обществе, в бизнесе. Мне кажется, что люди нашей профессии действительно могут многое. Не случайно в профессиональной среде есть поговорка: математик сделает это лучше. И не потому что будет вычислять успех того или иного дела по формуле, а потому, что используя аналитический потенциал, найдет нестандартное решение.
– К слову, о формулах. Жизненные ситуации наперед просчитываете?
– Что-то, конечно, анализирую, но большинство решений принимаю интуитивно. Давно убедился, что ключевые события происходят вне зависимости от наших усилий. Повороты судьбы нельзя предугадать, но можно научиться умело маневрировать. Ведь если вы в море и к вам приближается волна, глупо грести против нее, лучше расслабиться и покататься (улыбается).
УВЛЕЧЕНИЕ – ВЕСЬ МИР
– Работа стала хобби или остается время на увлечения?
– Очень люблю путешествовать и рад, что работа позволяет это делать. За последний год посетил больше мест на земном шаре, чем за все предыдущие. Хотя и раньше ездил достаточно.
– Что впечатлило?
– Насколько схожими между собой являются все американские и европейские крупные города. Их разнят географическое положение, климатические условия, население. Но, переезжая из одного главного города в другой, не испытываю дискомфорта. Все интегрировано, все понятно. Сегодня мир намного более объединен, чем раньше.
– Минск чем-то уступает мегаполисам?
– На мой взгляд, белорусская столица очень красивая. Есть, конечно, у нее свои минусы, но и существенные плюсы. Например, те дома, что сегодня возводятся в новых микрорайонах Минска, в сравнении со среднестатистическими ветхими жилищами «одноэтажной Америки» на периферии и крохотными квартирами-студиями в центре, были бы признаны жильем класса люкс. За океаном комфортные условия доступны далеко не каждому.
Впечатляет наша Национальная библиотека и другие масштабные сооружения. Здорово, что находим силы и резервы для их возведения. Вообще, Минск очень чистый и уютный город.
КОРНИ В БЕЛАРУСИ
– Станислав Леонидович, признайтесь, как живется белорусскому ученому за рубежом?
– Довольно комфортно, хоть и не тороплюсь «пускать корни». Располагаю просторной трехкомнатной квартирой в Бостоне в живописном месте на берегу Атлантического океана. Он, правда, прохладный. Но на лето припадает пара хороших месяцев, когда все прелести пляжного отдыха открываются буквально в трех минутах ходьбы от дома.
– В Америке без английского никак. Выходит, у вас не только математический, но и гуманитарный склад ума?
– Раньше считал, что знаю английский отлично. Выступал на олимпиадах и даже на областном этапе первое место занял. Но, когда первый раз приехал в Бостон, осознал, что понимаю процентов 20 от того, что говорят носители языка, и процентов 50 – не носители, хорошо освоившие чужую речь. Сейчас эти показатели подросли. Могу даже презентации на английском языке готовить, хотя это в разы сложнее, чем на русском – требования высоки. На любой американской конференции складывается впечатление, что слушаешь как минимум предвыборные спичи политиков. Не скажу, что языковой барьер преодолел полностью, но двигаюсь к тому.
– Родной язык не забываете?
– Что вы! Я часто общаюсь с близкими и родными, да и при первой возможности приезжаю в Беларусь и в Гродно.
– В городе детства любимый уголок есть?
– Дом родных (задумывается). А вообще, весь Гродно – один любимый уголок. В последнее время он меняется буквально на глазах, за что спасибо администрации. Но дух города остается прежним. И это радует...


















